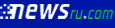"Генезис своей эстетики Владимир Сорокин выводит из детской травмы, когда, упав на батарею центрального отопления, маленький Вова разбил себе голову вентилем. Железо вошло под кожу, короче, ужасы жути."
Владимир Георгиевич Сорокин родился 7 августа 1955 года в Подмосковье. В 1977 году окончил институт нефти и газа. По специальности инженера-механика не работал. Живет в Москве. Женат, имеет двух дочек-близнецов. Занимался графикой, живописью, книжным дизайном, концептуальным искусством. Оформил и проиллюстрировал около 50 книг. Пишет прозу с 1977 года. Как литератор сформировался среди художников и писателей московского андерграунда 80-х. В 1985 году в Париже в издательстве "Синтаксис" вышел его первый роман "Очередь". Написал романы: "Норма", "Тридцатая любовь Марины", "Сердца четырех", "Роман", "Голубое сало", "Пир", "Лед". Автор 10 пьес. Написал киносценарии к фильмам: "Москва" (реж. А. Зельдович), "Копейка" (реж. И. Дыховичный), "4" (реж. И. Хржановский), "Вещь" (реж. И. Дыховичный), "Cashfire" (реж. А. Зельдович). 23 марта 2005 года в Большом театре состоится премьера оперы на музыку Леонида Десятникова, либретто для которой написано Владиром Сорокиным.
Книги Владимира Сорокина переведены на английский, французский, немецкий, голландский, финский, шведский, итальянский, польский, японский и корейский языки. На Западе его романы публиковались в таких крупных издательствах, как "Галлимар" (роман "Сердца четырех), "Фишер" (роман "Очередь"), "Дюмон" (романы "Норма", "Голубое сало").
В качестве жизнеописания маргинального писателя и живого классика издатели его книг предлагают примерно такой текст:
Художник, писатель. Единственный профессиональный прозаик среди авторов Московского концептуального круга. Владимир Сорокин сформировался как литератор в среде художников-концептуалистов, и до сих пор, что бы он ни говорил, он все же остается очень хорошим художником (хоть и прекратил к настоящему моменту всякую выставочную деятельность) и вполне очевидно, что очень многим в его шокирующей поэтике он обязан именно этому кругу.
Сорокин, бесспорно, один из самых успешных альтернативных писателей - к середине 90-х он был уже прочно известен на Западе и ряд его романов был издан более чем в десяти странах, кроме России.
Публикация в 1994 году в "Obscuri Viri" двух его важнейших романов по-русски ("Норма" и "Роман") стала решающим фактором на пути к отечественному читателю.
Более словоохотливые литературные критики пишут о Сорокине уже так:
Сочинитель, на чьем примере легче всего иллюстрировать такие важные постструктуралистские постулаты как "всякий текст тоталитарен" и "чтение есть процесс физиологический по меньшей мере не в меньшей мере, нежели духовный". Сорокинский текст это литературность как таковая, мясо письма, вполне равнодушное к своей собственной семантике, инфинитив дискурсивности. Но поскольку дискурсивность реализуется только в чьей-то речи и поскольку всякий субъект речи транслирует самость, а авторство всегда заражено идеей абсолюта, последовательное следование литературе оборачивается насилием и полным расхерачиванием машины желаний.
В поисках зон, свободных от смыслов, Сорокин много внимания уделяет испражнениям, как самой несемантизированной универсалии - в книге "Норма" говно это говно, а не символ чего бы то ни было. Другой способ достичь чистого письма без трения - впадание в чужие дискурсы, в готовые типы речи ("Роман"- усадебный роман прошлого века, "Сердца четырех" - постсоветский боевик, "Тридцатая любовь Марины"- производственный роман; в драматургии Сорокина луково пахнет психоанализом; в "Голубом сале" палимпсестируются Набоков и Достоевский, Платонов и Говноебов).
- Но роман "Голубое сало" - скорее продолжение старой стратегии. Меня в "Сале" откровенно раздражают Сталин с Гитлером - затрахали. Может быть, в жестоких разборках Сорокина с русско-советской абсолютистской литературой есть неконтролируемый им надрыв: иногда дискурс прогибает автора.
Сорокин при этом удивительно красив, несколько заторможен в жестах и речи, похож на настоящего русского писателя-помещика и очень артистично ест и пьет. Может быть, это последний человек, о котором можно сказать - Великий Русский Писатель.
(Вячеслав Курицын)
За Владимиром Сорокиным прочно укрепилась слава писателя, сильнее всех других эпатирующего российскую публику, непривычную к необыкновенным явлениям как в литературе, так и в жизни. Многие в нашей стране воспринимают тексты Сорокина как шизофренический бред.
Между тем на Западе, да и на Востоке (если понимать под последним Японию и Южную Корею, где сорокинские произведения переведены), познавшем искусы общества потребления, отношение к творчеству Сорокина куда спокойнее, но и заинтересованнее.
Да и традиция включения телесного низа в общекультурный контекст там многовековая - от Франсуа Рабле, через маркиза де Сада к Сальвадору Дали ("История пука" великого сюрреалиста предвосхищает один из основных мотивов Сорокина). Но Сорокин, пожалуй, первый, кто соединил откровенные описания с ожившими метафорами, проявления полового инстинкта и естественные отправления, как окно в самые потаенные уголки человеческой природы, - с филигранным пародированием литературных штампов на материале всей русской литературы, как высокой, так и массовой, от посланий Ивана Грозного до наших дней. Кто же такой Владимир Сорокин? Злодей? Праведник? Он прежде всего писатель, но, в отличие от подавляющего большинства русских писателей, никогда не смешивает литературу и жизнь- Когда писателя однажды спросили, существуют ли для него границы творческой свободы, то ответ был таким: "Это чисто техническая проблема, а ни в коей мере ни нравственная. Все, что связано с текстом, текстуальностью, достойно быть литературой". И действительно, убить человека в книге и в жизни - две очень большие разницы. Творческое самовыражение безгранично - выбор всегда за читателем. А читают Сорокина в России все больше и больше. Только роман "Голубое сало" за год вышел тиражом в 30 тысяч экземпляров, став настоящим интеллектуальным бестселлером. Значит, у Сорокина появился свой достаточно массовый читатель. Его книги, наверное, помогают лучше освоиться с нынешней нестабильной российской реальностью.
(Борис Соколов)
Генезис своей эстетики Владимир Сорокин выводит из детской травмы, когда, упав на батарею центрального отопления, маленький Вова разбил себе голову вентилем. Железо вошло под кожу, короче, ужасы жути.
Травма настигла его в анальную стадию, которую проходило впечатлительное детское сознание, отсюда, по всей видимости, и следует интерес к какашкам per excellence.
Как единственная возможность примириться с несовершенством мира - перевоссоздав его своим воображением заново. В романе "Лед" почти нет какашек, расчлененки и смакования привычных для Сорокина неаппетитных кошмаров, это очень здоровый, позитивно заряженный текст. По сути - первый самостоятельный роман, исполненный в новом статусе. Поразительно, как Владимиру Сорокину удается так по ветру держать нос: сегодня обществу, как никогда, необходим образ положительного героя, пропаганда правильного образа жизни, наконец, светлая идея, которая могла бы замотивировать наших растерянных современников на всяческие разнообразные трудовые и творческие свершения.
Вот Сорокин и откликается на злобу дня - в силу своего понимания и умения - добротой и оптимизмом, как в каком-нибудь старозаветном "Что делать?", он выводит на сцену "новых людей", организует вокруг них пространство, исполненное сияющей благодати. Помнится, выход "Голубого сала" не случайно совпал с появлением "Поколения П" Виктора Пелевина, когда две эти книги словно бы подвели черту не только под экономическим, но и литературным дефолтом. Теперь, точно так же, "Лед" организует натяжение текущего контекста, вместе с параллельно вышедшим романом Андрея Левкина "Голем, русская версия".
(...)
В романе Владимира Сорокина "Голубое сало" (М., "Ad Marginem") очень много слов. Русских, китайских, французских, немецких. Терминообразных, придуманных, сленговых, матерных. Экспроприированных у разных писателей, мемуаристов, политиков, философов. Мертвых. Так как других слов любимец пожилых германских славистов, безвозрастных составителей газетной светской хроники и юных продвинутых интеллектуалов попросту не знает. И знать не хочет. И никак не может допустить их существования. О том и пишет свой многолетний довольно длинный текст. (Его наиболее полная версия опубликована в виде двухтомного собрания сочинений тем же издательством "Ad Marginem" осенью 1998 года.) Очередным сегментом этого пестрого, но однотемного опуса стало "Голубое сало".
В романе наличествуют: апокалиптическая футурология, альтернативная версия истории XX века, гомосексуализм, каннибальство, квазирелигиозное изуверство, пародии (частью формально выделенные, частью растворенные в тексте) на русских классиков и новейших сочинителей, педофилия, изощренные пытки, раскавыченная цитата из Солженицына, наркомания, простатит, стрельба, вселенские катаклизмы, залитый фекалиями зал Большого театра, клонирование, сюрреалистические видения, КГБ и очень много разнообразной жратвы. В романе наряду с вымышленными персонажами действуют не менее вымышленные, но имеющие исторических двойников. Таковые делятся на две группы. С одной стороны, Сталин и Гитлер с их близкими (Алилуева, Ева Браун, дети Сталина) и присными (Берия, Гиммлер, Хрущев, Борман, Маленков, Скорцени - далее по списку). С другой - Ахматова, Пастернак, Мандельштам, Сахаров, Шостакович, Алексей Толстой, Солженицын, Бродский, Вознесенский, Евтушенко, Ахмадулина, Аксенов, Всеволод Некрасов, Холин...
Омерзительны и те, и другие. Но по-разному. Людоеды представлены куртуазными интеллектуалами, маньеристскими садистами-сибаритами, тайновидцами-извращенцами, источающими амбре демонической привлекательности. Поэты - жалкими ублюдками, истово тянущимися к завораживающему сверхнасильнику Сталину. Достойный литинститутского капустника эпизод "разборки" у пивного ларька между официально признанными "шестидесятниками" и хулиганами-"лианозовцами" должен смягчить отвратительно грязные эпизоды с участием Ахматовой, Мандельштама, Пастернака, Бродского. Дескать, надо всеми одинаково смеемся - такой у нас постмодернизм. Однако не трудно понять, где заурядное (и вымученное - даже на общем сорокинском фоне) хохмачество, а где - пламенная страсть.
Со страстью поэтизируется зло. Со страстью разоблачается величие, человечность, сила духа, дар. Ибо, согласно Сорокину и его единомышленникам, всего этого нет и быть не может. Человек по природе низок, жесток, труслив и подл. Стихия его - дерьмо, приправленное кровью и спермой. Извращение - норма. Потому и пленительна коммуно-фашистская сволочь с ее "большим стилем". А так называемые "добрые чувства", всякие там "вера", "любовь", "свобода", "ответственность", "поэзия" - дурман, изготовляемый лицемерами. Что тоже хотят вкусить сталинско-гитлеровских радостей, да только боятся. А потому и производят в промышленных масштабах мертвые слова, что прельщают таких же рабов и пакостников.
Аналогом этих самых мертвых слов и является "голубое сало" - неистребимая фантастическая субстанция, в которой всяк волен видеть что-то свое: сверхмощное оружие, целительный препарат, сгусток мистической энергии... Его-то и вырабатывают в диковатом будущем (начало романа - пародия не то на антиутопию, не то на научную фантастику) кадавры, повторяющие русских классиков. Вырабатывают в процессе "порождения" текстов Льва Толстого, Достоевского, Пастернака, Ахматовой и проч.
Попав в XX век и увидев кой-кого из этих корифеев воочию, мы должны убедиться, что все они ничем не отличаются от своих искусственных подобий, а стало быть "искусственные тексты" стоят естественных, сорокинские имитации (с насилием и матюгами) - живой поэзии и прозы. Все одно - голубое сало. Почему "голубое"? - А чтобы красиво было -завлекательно и многопланово. Почему "сало"? - А чтобы служба медом не казалась. Чтобы помнили: в основе всякого "голубого" вранья - нечто склизкое, жирное и противное. Сальное. И приведет оно вас туда, откуда пришли. К похоти и обжорству расчеловеченного будущего, где самому Сталину придется служить лакеем у одного из заурядных монстров, а "голубому салу" - наконец-то исполнить свое назначение, обернуться маскарадным нарядом этого представителя обновленного человечества.
По Сорокину, "светлое будущее" то ли уже пришло, то ли (что вероятнее) было всегда. Про то и весь роман. Чтение которого вполне можно заменить знакомством с эпиграфами. Первый из Рабле - о замерзших словах: "В наших руках они согревались и таяли, как снег, и тогда мы их действительно слышали, но не понимали, так как это был какой-то варварский язык... Мне захотелось сохранить несколько неприличных слов в масле или переложив соломой, как сохраняют снег и лед". Второй - из "философствующего молотом" Ницше: "В мире больше идолов, чем реальных вещей; это мой "злой взгляд" на мир, мое "злое ухо"..."
Наворотят (да и наворотили уже) вокруг этого протухшего сала сорок бочек арестантов: про стихи после Освенцима, про деконструкцию, про конец логоцентризма, про отчуждение, про гибель богов, про борьбу с эпигонством, про кризис гуманизма... Мертвые слова клонируются превосходно. И все равно добро останется добром, зло - злом, коммунизм - чумой, Сталин с Гитлером - негодяями, Ахматова, Пастернак и Мандельштам - великими поэтами, история - историей, а люди - Божьми детьми. Вольно Сорокину слышать только мертвые слова, видеть одних идолов и потреблять-производить "голубое сало". Вопреки госпоже Простаковой не все то вздор, чего не знает Митрофанушка. И колготящиеся окрест него Вральманы.
(Дмитрий Бавильский)